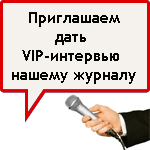Новый стандарт старшей школы.
Накал общественных страстей вокруг проекта стандартов старшей школы, которым разработчики сделали неосторожную рекламу, беспрецедентен для истории постсоветского образования — беспрецедентен
даже на фоне весьма упорной борьбы против концепции двенадцатилетнего образования и против ЕГЭ; беспрецедентен даже с учетом того обстоятельства, что ни одна образовательная инициатива, выдвинутая сверху, не была принята благосклонно педагогическим сообществом и лейтмотивом критики всегда был призыв не трогать советскую школу и оставить все как есть. Этот накал высветил весьма серьезные и болезненные проблемы нашего образования, значительно более глубокие, чем то, что затронула данная полемика и что она могла бы затронуть, если бы ее участники пытались — в меру сил и умения — анализировать ситуацию, а не соревноваться друг с другом, кто использует больше черной краски для своих прогнозов; впрочем, критики — при том что они старались быть похожими друг на друга — исходили из разных позиций, разного опыта и разных педагогических идеалов. При этом положения стандарта были сформулированы невнятно. Специалисты одной из лучших современных русских школ — петербургской гимназии № 6101 — поняли намерение образовательного руководства
сохранить за центром 40 % учебного времени как желание отвести его на четыре предмета из обязательного ядра: ОБЖ, физкультура, «Россия в мире» и индивидуальный проект; вряд ли у министерства были такие намерения, но в то же время ничто не мешает воспринять стандарт именно так. В болезненной и бурной реакции сказалось — вполне заслуженное — «недоверие к начальству». Вот, например, письмо, составленное главным редактором газеты «Литература» Сергеем Владимировичем Волковым; оно содержит очевидные для всех полемические преувеличения: «Для такой страны, как Россия, является не просто невыгодным, но и противоестественным отказ от обязательного изучения старшими подростками русской литературы, которая, по сути, и представляет собой Россию в мире и является для граждан страны основой безопасности жизнедеятельности. Напомним: в старших классах
читают Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Тургенева, Островского, Гончарова, Лескова, Достоевского, Толстого, Чехова, Блока, Ахматову, Булгакова, Шолохова, Платонова, Солженицына… Без
изучения этой литературы (и именно в том возрасте, в котором находятся старшеклассники) невозможно формировать ту личность, о которой так гладко и красиво повествует стандарт».
Кроме чисто ведомственных соображений — преподаватели русской словесности прекрасно понимают, что на добровольное знакомство с их предметом рассчитывать не приходится, — здесь
содержится фактически неверная и обидная для многих поколений русских школьников мысль, будто полноценным человеком без знания того обширного списка авторов и произведений, который С.В.Волков и его коллеги признали «классикой», стать нельзя. (Напомним читателю: вся русская школа XVIII в. игнорирует русскую словесность в принципе, а позднейшая почти до самой революции «не замечает» современную русскую литературу.)
Но даже если эти соображения педагогического опыта и не являются общественным достоянием (историю дореволюционной школы у нас знают очень плохо), есть соображения, которые лежат на поверхности: очевидно, что «Война и мир» и «Тихий Дон» без серьезного административного воздействия прочитаны быть не могут, а социальный контекст, который сделал бы такое воздействие возможным, уже не вернется, как бы этого кому ни хотелось, и в списке есть не одно имя «на любителя» — заставлять знакомиться с ним целиком всю русскую молодежь непродуктивно. Тем не менее, при всей очевидности этих соображений, письмо было подписано не одной тысячей человек — из которых вряд ли каждый в глубине души так уж желал, чтобы в одиннадцатом классе какой-нибудь С.В.Волков воспитывал его ребенка с помощью обязательных Платонова и Солженицына. Как бы то ни было, группа критиков стандарта численно преобладала.
Были у стандарта и защитники. Прежде всего это трезвые педагоги-практики, которым в идее разгрузки образовательного ядра показалась привлекательной перспектива уменьшить долю иллюзий и обмана (например, статья Елены Подгорной «Не будут дети это учить!»). Некоторые, не беря под защиту стандарт, показали беспочвенность его критиков, как, например, известный историк Сергей Владимирович Волков: «Вообще настоящее образование существует ради образования, так сказать, “из любви к искусству”. Его можно получить, но нельзя дать. На самом деле это то, что человек приобретает, читая книги и общаясь с образованными людьми, т. е. в основном самостоятельно. И получить его на самом деле хотят относительно немногие. 90 % (если не больше) желают получить документ об образовании (что не одно и то же). Масштабы охвата “образованием” всегда обратно пропорциональны его качеству. Но высшее образование способны полноценно получить от силы процентов десять населения, среднее — разве что в 3–4 раза больше. Когда считается, что получить последнее должны все, оно неизбежно профанируется более чем наполовину». Эта позиция и представляется нам наиболее перспективной.
Рассмотрим левую и консервативную критику проекта. В качестве образца первой возьмем резонансную статью С. Г. Кара-Мурзы «О новом образовательном стандарте». Сергей Георгиевич — известный специалист по манипуляции сознанием; чрезвычайно любопытно взглянуть, как это проявляется в его образовательном манифесте. С начала несколько выписок.
«Изучение Стандарта приводит к выводу, что его принятие будет означать пресечение корня русской культуры и культуры народов России, соединившихся на общей мировоззренческой платформе. Переход к новому Стандарту не поможет преодолению кризиса образования (как части нашего системного кризиса), но поведет к снижению качества обучения и воспитания в на-
шей школе, и Россия надолго выпадет из числа стран с высоким уровнем массовой культуры и знания. Планы модернизации, ликвидации бедности и консолидации гражданской российской нации будут отброшены. Истории известны национальные катастрофы, вызванные подобными разрушительными реформами школы».
Безусловно, если истории известны такие национальные катастрофы (во множественном числе), следовало бы привести хотя бы два исторических примера. Их нет, и полагаю, и не появится. Есть косточка, брошенная критикам: «…русской культуры и культуры народов России, соединившихся на общей мировоззренческой платформе». Обличить этот тезис легко, но тогда полемика уйдет в сторону — на что и рассчитывает автор, оберегая таким образом свои основные тезисы. Продолжим цитирование.
«Данная мной оценка проекта вызвана следующей ключевой установкой — речь идет о радикальном преобразовании всей структуры образовательной программы. Известно, что после долгих дискуссий, продолжавшихся с конца ХIХ в., советская Россия приняла в строительстве системы народного образования модель единой общеобразовательной школы. Эту школу и унаследовала Россия постсоветская».
Здесь ключевой момент статьи, и нам предстоит остановиться на нем подробнее. Относительно «дискуссий с конца XIX в.» — автор мог просто не знать, что труд преподавателя Казанской духовной академии и Казанского университета А.П.Щапова «Социально-педагогические условия умственного развития русского народа», где подробно обоснована концепция всеобуча с естественнонаучным уклоном, вышел еще в 1870 году. Читатель знает, что между началом «долгих дискуссий» и принятием советской школьной модели произошло крушение русской
государственности. Но он вполне может не знать, что — наряду с прочими институтами прежнего государства — была разрушена до основания и старая русская школа. Автор представляет создание новой, советской школы как «выбор» в результате «дискуссий», тщательно маскируя тот факт, что средняя школа в прежней России была и что она была уничтожена.
Теперь вернемся чуть-чуть назад, к «пресечению корня русской культуры». Автор помнит (и скрывает от читателя), что пресечение корня — не менее радикальное, чем то, которое критикует он, — уже было осуществлено. Таким образом, интеллектуальная честность требовала бы написать «пресечение корня советской культуры». Но на борьбу за советское культурное наследие широкие массы мобилизовать не получится; само по себе это словосочетание вызывает улыбку. Потому косвенными средствами, без прямой лжи, только умолчанием нужно создать у читателя впечатление: реформаторы «пресекают корень» всей русской образовательной традиции. О б этом же читаем дальше: «В Стандарте нет обоснования, почему и на каком основании происходит отказ от российской (правильно — от советской. — А. Л.) модели. Где и когда обсуждался такой исторический выбор и в чем он заключается?»
«На мой взгляд, принимать столь фундаментальные и столь долгосрочные решения, как выбор модели средней школы, не уполномочены ни Минобразования, ни даже Правительство. Это предмет общественного договора». Безусловно, полуинтеллигентам, группировавшимся вокруг А.В.Луначарского и Н.К.Крупской, автор этих претензий не предъявляет — у них были полномочия крушить и резать по живому, не задумываясь о реакции общественности, но «разделать» то, что они сделали, по мнению С.Г.Кара-Мурзы, власть права не имеет. Почему? Сам по себе вопрос замаскирован и не сразу придет в голову. Можно выразить восхищение: манипулятивная техника автора оказывается на должной высоте. Но проблема, затронутая им, заслуживает обсуждения по существу. Т ем более что представление о преемственности советской школы по отношению к императорской — вещь достаточно распространенная. Против этого заблуждения нужно выступить со всей решительностью. Императорская школа не имеет ничего общего с советской, поскольку:
1) императорская школа никогда не была школой всеобуча. Наряду с основными типами среднего образования — классической гимназией с древними языками, готовящей к университету, и реальным училищем с двумя новыми языками, естественными науками и математикой, что давало базу для продолжения образования в технических вузах, были кадетские корпуса, духовные семинарии (военное, морское и духовное ведомства имели учебные системы, не слишком уступающие по мощи образовательному
ведомству), коммерческие училища, лицеи, привилегированные учебные заведения вроде Пажеского корпуса и Училища правоведения, громадное многообразие железнодорожных, сельскохозяйственных, ремесленных школ (мы перечислили только мужские; женских типов было меньше, и они отличались от мужских, но развивалось женское образование в последние десятилетия Империи весьма динамично). Таким образом, возможность удовлетворить конкретные образовательные потребности была много шире, чем сейчас;
2) средние учебные заведения — гимназии и реальные училища — стремились не к «выполнению плана» любой ценой, а к адекватной оценке ученических способностей и усердия. Отсев в 30–40 % учеников никого не смущал и считался нормальным. Этот пункт неразрывно связан с предыдущим, разумеется: отчисленным было куда идти. И конечно, педагогическая честность порождала массовое недовольство русской средней школой: и родители отчисленных, и сами они редко бывали склонны признавать правоту гимназического начальства. В результате общественное мнение было далеко от того, чтобы воспринимать, как это было безо всяких оснований в СССР, свое образование как самое лучшее;
3) имея в рамках среднего образования один «гуманитарный» и один «естественнонаучный» тип, Россия заботилась о том, чтобы и тем и другим сообщить достаточно высокий уровень общей
культуры. Будучи государством европейским и открытым, Россия давала гимназистам — даже в самом конце, когда модель классического образования подверглась массированной атаке, — один
древний и один новый язык (при возможности выучить два древних и два новых), реалистам — два новых языка. Педагогам Империи и в голову не приходило поставить в центр гуманитарного образования русский язык и русскую литературу — суммарно в гимназии им отводилось 3–4 часа, и русская словесность считалась и была второстепенным предметом. Не было принято читать с учениками современную литературу, программа останавливалась на Гоголе;
4) педагоги Российской империи никогда не признали бы невежественного выпускника советской средней школы имеющим среднее образование. Для них дотягивающим до планки элементом в советской программе была бы только математика (с той оговоркой, разумеется, что далеко не все советские ученики осваивали эту программу). Миф об энциклопедичности и академичности советского образования заслуживает отдельного разговора; сейчас нам важно подчеркнуть: и общие контуры системы, и программы, и жизненный уклад императорской школы имели с советскими аналогами очень мало общего.
Кара-Мурза делает вывод: «У авторов Стандарта нет оснований отвергать модель единой общеобразовательной школы по той причине, что она была принята в СССР . Эта модель с разными оттенками реализована во многих странах, которые сейчас показывают высокие результаты в образовании (например, в Японии, Южной Корее и Китае). Она прекрасно “уживается” и с рыночной экономикой, и с демократией». Пассаж чрезвычайно замечательный: родственными признаются модели для стран с иероглифической письменностью (за исключением Кореи) и с культурными традициями, совершенно не сходными с Россией. Ни в одной крупной европейской стране, с которыми только и можно сравнивать образовательную систему России, модель всеобуча не прижилась и прижиться не могла. Известно ли это автору статьи? Думаю, да, и его энергия в отстаивании всеобуча объясняется, конечно, не интересами рыночной экономики и демократии, а тем, что ему ближе иной социальный проект — тот, где все одинаковы и где «единая общеобразовательная школа» является инструментом, скажем мягко, создания и воспроизведения культурной и социальной однородности.
А потому у авторов стандарта, как и у всех, кому небезразлична судьба русской школы, есть, вопреки Кара-Мурзе, все основания отвергать советскую модель. И чем более радикальным будет это отвержение, тем больше шансов, что удастся построить что-то достойное и работоспособное. Несоответствие же советской модели современной реальности обнаруживается на каждом шагу: деградация постсоветской школы во многом обусловлена тем, что так и не произошло отказа от всеобуча; все удачные проекты последних десятилетий разрушают его, ибо серьезно выходят за его рамки. При этом всеобуч 1) так и не помогает большинству детей и подростков достичь даже и своего, весьма примитивного, культурного уровня и 2) что в настоящей ситуации еще страшнее, загромождая учебную программу лишним и ненужным, очень серьезно препятствует наиболее талантливым детям в получении того образования, которое они хотели бы и могли бы вынести из школы (два-три, а то и четыре древних и новых языка, доброкачественные знания по истории, знакомство с иностранной литературой на языке оригинала, осуществление нескольких исследовательских работ — для гуманитариев; серьезная математическая программа, правильно, т. е. научно, а не догматически, преподаваемые естественные науки, опять-таки два новых языка — для естественников). Поскольку одной из главных задач всеобуча было пресечение самой возможности возникновения интеллектуальной элиты с хорошим культурным бэкграундом, в наше время, когда именно такой элиты нам катастрофически не хватает, оставлять его в качестве ориентира было бы той ошибкой, которая хуже, чем преступление.
Мы не будем сейчас останавливаться на вопросах платности и доступности — этой вечной теме левых, когда они затрагивают правительственные образовательные инициативы. Потому можно
подытожить: в содержательной области левая критика не содержит ни одного конструктивного элемента, и ее предложения заведомо хуже, чем идеология стандарта.
В качестве примера критики консервативной можно взять статьи А. Н. Привалова — человека, которого нельзя заподозрить по крайней мере в том, что он желает социалистической реставрации. Наиболее ярко его тезисы сформулированы в работе «О профессиональном реформаторстве»: «Отдельная большая печаль — голоса простых людей в поддержку стандарта. Газеты обильно цитируют мам и бабушек, жаждущих быстрейшей кастрации программ. „Моя дочка (внучка) уже знает, куда будет поступать, днем и ночью готовится к экзаменам по А, Б и В — избавьте же ее от бессмысленных уроков по Г, Д и Е , зачем ей тратить время и силы на лишние знания?“ Через раз к таким монологам приложен бонус: тирада о бессмысленности и даже вредности русской классики — для школьников, а то и вообще. По чести говоря, эти добрые люди ужасают даже более, чем Кондаков с Фурсенко <…> Почему в этом заносящем страну диком невежестве вас так тревожит избыток знаний?
По-видимому, мы уже дошли до стадии, на которой банальности кажутся откровениями. Держите — вот горстка вполне очевидных. Итак, школа самоценна. Поступление в вуз — одно из не слишком сложных следствий усердного учения в школе, но никак не его цель. Школьник получает прекрасную — и для большинства последнюю в жизни — возможность более или менее системно познакомиться с широким кругом разнообразных знаний. “Ему в жизни не пригодится!” Ему прямо в классе пригождается. У него расширяется ум и пополняется запас инструментов мышления. Он
учится учиться. Та самая приспособляемость к меняющимся условиям, которую реформаторы велеречиво провозглашают целью своих трудов, у него тренируется по пять раз на дню — с каждым переходом с физики на историю».
На уровне общих положений тут многое справедливо. Но для описания нашей ситуации это практически безразлично, поскольку из рассуждения выпало ключевое звено. Оно заключается в том, что знания тогда способствуют развитию и остаются с учеником, когда они либо интересны ему, либо полезны (что вполне может совмещаться и совмещается). Если ни одно из этих условий не соблюдено, то никакого «расширения ума» и «пополнения запаса инструментов мышления» не происходит: школьник не работает над задачами, какие ставит перед ним учебный курс, но пытается найти способ выйти из неприятной ситуации с наименьшими затратами энергии и сил. Конечно, можно утверждать, что эта деятельность тоже изощряет ум и ловкость; но педагогика может использовать это время и с более высоким коэффициентом полезного действия. «Приспособляемость к меняющимся условиям» — образец манипулятивной техники, достойный С. Г. Кара-Мурзы. Нормальный, развитый взрослый человек способен заниматься в день тремя-четырьмя делами; если к этому основному объему добавляется несколько мелочей, что-то из них обязательно будет забыто. Заставлять ребенка десять раз в день переключать внимание с одного предмета на другой — значит самым решительным образом поставить его развитие под вопрос. Ш кола, которая серьезно интересуется развитием ученика, должна стремиться к всемерному сокращению количества учебных предметов — уже для того, чтоб можно было заниматься учебными делами спокойно и сосредоточенно. Теми чудесными свойствами, которые приписывают школьным предметам А. Н. Привалов и другие эксперты, эти предметы в действительности не обладают; и в результате получается то, что получается: не поддержанная достаточным уровнем социального насилия система начинает разрушаться и продолжает функционировать лишь в силу инерции. В другой статье — «О дискуссии в одни ворота» — он пишет: «Да что мы все про деньги! не в них одних дело. На том же сайте 610й гимназии видел я еще цитату из знаменитого филолога: “Легкая школа — это социальное преступление”. Замечательно мягко сказано»7. Как опытный публицист, А. Н. Привалов сообщает читателю не всю информацию — пусть сами прочтут на сайте, что это слова Фаддея Францевича Зелинского. Но сам он не полюбопытствовал, откуда взяты эти слова. А если бы это произошло, то уже на следующей странице он нашел бы следующий тезис: «Требование дифференциации — возможное разнообразие типов средней школы: есть у нас школы классические, реальные, профессиональные разных категорий — и прекрасно; чем больше будет этих типов, тем больше шансов, что всякий способный мальчик найдет тот, который будет соответствовать его способностям». И чуть раньше (с. 120–121): «Общество нуждается не в одной только классической гимназии, а в нескольких типах средней школы соответственно сложности своего организма и разнородности человеческих дарований; и само собою разумеется, что я, как претендующий на культурность человек, ни к одному из этих типов не отношусь враждебно. Вражду питаю я, и притом непримиримую, лишь к той “единой школе”, которая нам угрожала одно время, этому мертворожденному детищу педагогического авантюризма, подгоняющему все дарования под один общий для всех шаблон». Нашел бы — и прочел бы в книге Зелинского жестокий приговор своим образовательным идеям.
А. Н. Привалов упрекает стандарт в том, что в нем нет идей. Это несправедливо: идеи в стандарте есть, и их целых три — одна чрезвычайно неудачная, две, напротив, весьма перспективные. Неудачная заключается в образовательном ядре: как отмечал историк Сергей Владимирович Волков, «выделение в качестве главных и обязательных предметов физкультуры, “патриотического воспитания” и ОБЖ выглядит комично — как карикатура на тему
“чего хочет от нас режим”, уж больно откровенно выписан образ накачанного идейного дебила»; Московское математическое общество сочло, что «трагикомизм основного списка обязательных предметов, приведенного на той же странице, не нуждается в обосновании».. Нужно сказать, что эта критика в адрес стандарта вполне справедлива, как и его сравнение с моделью IB, которое дают в том же заключении специалисты 610й гимназии. Но другие две идеи — серьезная разгрузка на старшем уровне с большой долей свободы в выборе предметов и помощь развитию ученика через индивидуальный проект — заслуживают поддержки, и первый тезис, скорее, страдает недостаточной радикальностью: сохранение всех предметных областей как обязательных нецелесообразно, напротив, имело бы смысл ограничиться двумя-тремя областями, которые и изучать уже серьезно. Просмотрев критические высказывания в адрес стандарта, мы пришли к выводу, что значительная их часть — разумеется, не все — исходит из ложных и устаревших педагогических воззрений и не содержит конструктивного элемента. Значит ли это, что стандарт способен остановить деградацию средней школы и решить хоть отчасти насущные образовательные проблемы? По-видимому, это не так; не говоря уже о предложенном авторами
«трагикомическом» образовательном ядре, документ узаконивает естественным образом сложившееся положение дел, в то время как для русского среднего образования нужен всеобъемлющий проект — его необходимо выстраивать заново, исходя из единой работоспособной концепции, очень осторожно и не слишком доверчиво относясь к наследию советской школы, господствующим в ней дидактическим установкам и педагогическому опыту (за исключением математики, которая, как было сказано выше, представляет собой универсальную и доброкачественную «интеллектуальную пищу» для детей).
Довольно часто в критических выступлениях о деятельности министерства звучит предложение созвать некий представительный орган, который от лица всех общественно-политических сил и (или) направлений педагогической мысли разработал бы проект новой русской школы. Полагаем, что нет ничего вреднее такой идеи: из нее может родиться только компромисс двух десятков предметных лобби и десятка заинтересованных ведомств, что может дать на выходе только неэффективную многопредметную школу. Что касается школьно-педагогического сообщества в целом, оно за двадцать лет вполне доказало свою неспособность предложить работоспособную модель: все интересное, что возникло в перестроечную и постперестроечную эпоху в этой области, было создано университетскими, научными, а не педагогическими кругами.
По-видимому, именно им и предстоит — за отсутствием другого компетентного субъекта — взять на себя труд создать концепцию среднего образования в России. Полагаем, что наиболее разумным шагом было бы возвращение к традиционному русскому и европейскому образованию с тремя основными типами учебных заведений: «гуманитарная» гимназия, «естественнонаучная» гимназия и общеобразовательная школа для тех, кто не претендует на получение высшего образования в университете.
А. И. Любжин